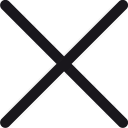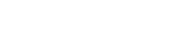Любовь и старость в ущелье
13 сентября 2010, 11:54
Наступление старости легко вычислить.
Это когда почти каждая улица в городе вдруг наплывает печальным воспоминанием. Нет, не во время езды по пробкам в потные будни. А на прогулке в выходной день; лучше пешком, но можно и на трамвае. Маршрутки и автобусы не предлагать.
А с чего бы еще начинающие и продолжающие стареть люди так любят хаотично путешествовать, коллекционируя не столько зрительные впечатления, сколько географические названия? Они убегают от воспоминаний. Понятно, что спасение временное, но что такое и время? Убежал несколько раз, а там нет уже ни тебя, ни воспоминаний.
***
Теперь объясню вам, что такое роман в романе. Опять нет – не литературоведческий термин от студента провинциального филфака. И не фантастический счёт, вложенный официантом в потрепанный 3-й том «Войны и мира» – была такая фишка в одном из саратовских ресторанов.
Роман в романе нарисовался у меня, лет десять назад.
Представьте себе нищеброда-литератора тридцати лет, чья поздняя молодость бесстыдно затянулась. Он успел побывать спортсменом, солдатом, пролетарием и студентом, мужем и отцом. Пытался сделаться мелким криминалом и честным коммерсантом. Играл в карты и усердно молился. Но, подобно Гекльберри Финну, ничего серьезного не вымолил.
У него нет ни жилья, ни имущества, ни, по большому счету, перспектив.
Он напечатал страниц сто прозы, получил пару-тройку рецензий в центральной прессе, и обнаружил, что русская литература в текущий момент в стране (в других странах тоже) на хуй никому не нужна. Ни его литература, ни любая другая. Когда-то была нужна и, возможно, будет, но ведь Богу не скажешь: «Можно, я попозже зайду?»
Он, впрочем, составил некоторое имя в прессе провинциальной. Но этот статус куда ниже и смехотворней несуществующего литературного. Он к тому времени даже возглавил журнальчик, который еще жальче тех газет, где ему приходилось работать. И не закрывается только потому, что издательница больше всего на свете хочет стать похожей на Ирину Хакамаду.
(…Я не раз говорил: журналисты веселей, проще, опытней и обаятельно циничней всех прочих творцов. Естественно, и они так же никому никуда не уперлись, но, особо не напрягаясь, сумели обмануть взрослых людей, убедив их в собственной необходимости. И даже отжать под это дело какие-то привилегии в этом Лос-Анджелесе. Было такое сословие в допетровской Руси – боевые холопы, которых не стоит путать с домашней прислугой. Имели коней и оружие. Некий прообраз братвы при боярине или помещике. Чем занимались на войне, понятно, а в мирное время охраняли хозяина, практикуя уличные наезды на коллег с выяснением – чей господин круче. Драка, кабак, охота на дворовых девок. Ничего не напоминает? Как ни парадоксально, дорожили своим холопским званием, поскольку «воля» автоматом означала низведение до мирного «лоха» и постылый крестьянский труд. Один из полевых командиров Смутного времени, Иван Болотников, происходил из боевых холопов).
…Что мне тогда оставалась делать, кроме…? Поскольку, напоминая латыша из матерной поговорки, отрастил я не только амбиции.
Когда меня сегодня упрекают в гиперактивности, я оправдываюсь тем, что в молодости ничего не делал, а только блядовал и пьянствовал.
…Однако тут я по-мужски себе польстил удалым «блядовал». Все бывало гораздо глубже и горше.
Я снимал однушку на Хользунова, возле городского парка, и любил его тогда больше сегодняшнего, ухоженного и угодившего в политику. Видимо, парк рифмовался с моей запущенной и абсолютно некоммерческой жизнью; связующий символ – неработающее колесо обозрения. Девушка от меня ушла, поскольку узнала о другой девушке и любви, вспыхнувшей на новогоднем редакционном корпоративе – строго в соответствии с ахматовским принципом «из какого сора…»
Ушла, но, разумеется, иногда возвращалась, и тогда бурным случалось всё – даже водка разливалась, как нагретое шампанское.
Вообще не устаю поражаться и страдать комплексом неполноценности, когда думаю о том, какие женщины… Красивые, тонкие, интересные, уже в молодости успешные, из хороших, положительных семейств. Вы скажете: таких-то и тянет неудержимо к подонкам и лузерам. Примеров тьма. Соглашусь, но одним этим банальным обстоятельством ситуация не исчерпывается. Наверное, каждая умная женщина (а большинство женщин умнее мужчин) – стихийный мистик и Нострадамус. Она видит даже во временном спутнике, как тот буддийский лошадник, не только первичные половые признаки, но подлинную суть вещей. Даже за пределами этой жизни.
Сомневаюсь, однако, что во мне и сегодня можно что-то прозреть. Тем не менее, как было, так и было.
В тот дом (из мебели – кухонный стол и компьютер) приходили люди не только интересные, но и самые причудливые. Будущие московские и питерские актеры. Писатели Борис Фаликов и Сергей Боровиков. Милиционер с хипписткими феньками под форменной одеждой, забористой травой и погонялом под стать боссу даже не нью-йоркской, а токийской мафии. Две его тогдашние жены – вместе и порознь. Вася Джа, считавшийся на тот момент жизни фотографом. Однажды – Роман Чуйченко, что сегодня само по себе звучит юбилейно и не требует комментариев. Как-то Вова Д. привел застенчивого паренька в петушке. Потом выяснилось, чем паренек знаменит: он, оказывается, собственноручно собрал револьвер, зарядил и выстрелил себе в голову. Тогда его спасли. Через несколько лет он усовершенствовал и повторил опыт. И уже не выжил. Ко мне он заходил, как пушкинский Сильвио, между выстрелами…
Всё было хоть и запущенно, но празднично. Стихи Бориса Рыжего и рассказы Анатолия Гаврилова, которые Голицын распечатывал на принтере и, не застав меня, оставлял в дверной щели. Записи «Инструкции по выживанию» и Аркадия Северного под названием «Планчику курну», которые я, собрав Северного часов двести, с тех пор так и не слышал… Цвел каштан под окнами, прихватив бутылку водки («ликсаровский» магазин прямо в моем доме дарил убогие радости днем и ночью), мы шли в парк и ныряли в тамошние водоемы. Как-то в срединном апреле мы с Голицыным совершенно равнодушно искупались у «Ротонды». Причем по дороге туда, а не обратно, степенно вели разговор о простатите.
Однажды я сломал ногу. То есть она треснула. Но в любом случае распухла и не могла ходить. Девушка – не та, что ушла, а та, что пришла, меня навещала, и снова всё было празднично: девушка, горячая готовая пицца (тогда новинка и диликатес), апельсиновая водка в маленьких бутылках «Smirnoff». (Сейчас с ужасом даже не вспоминаю, но представляю этот вкус).
Девушка, однако, работала и жила с родителями, а мне периодически надо было ходить в Первую Советскую больницу. И ближайший друг самоотверженно вызвался забить на работу и дом (дело обычное) и проводить меня; осознавая важность миссии, остался даже ночевать. Утром, естественно, приступил к опохмелу, который получился быстрым и неправильным. Нет, не подумайте о моих товарищах дурно: чувство долга с горем пополам все же вынесло его вместе со мной из подъезда и потянуло по улице. Лёд плох даже в вискаре, а уж на улице, по пьяни, да с инвалидом в обнимку… В общем, друг мой падал, взмахивая, как ворон, полами длинного пальто, я нелепо вокруг него хлопотал… На перекрестке Хользунова-Новоузенская (почти у больницы, к чести друга сказать) чувство долга его окончательно покинуло. И колченогий я добывал такси. Что тоже бывало тогда непросто – их в таком количестве еще не водилось.
Трещина заросла, я снова стал ходячим, и началась весна. Цвел, говорю, каштан, и на двух параллельных бульварах – Рахова и Астраханской, цвели не только пивные ларьки. Не говоря о парке, где все победительно лезло из-под земли, а в зарослях блуждали малыши и собаки. Цвела любовь; засветло – в парке, как стемнеет – у меня дома, и, естественно, моя очень домашняя девушка вспоминала о родителях, как только переставал ходить транспорт в Октябрьское ущелье.
Повторяю: был я беден, но, осторожно пересчитывая деньги рукой в кармане, шикарно ловил на Магистрали тачку и в салоне лез целоваться. Из-за поцелуев дороги туда я не помню, не помню и подъезда по той же причине. Во всяком случае, сейчас не найду.
А дальше… Помните песню 60-х «Опять от меня сбежала последняя элекричка» в исполнении… сейчас посмотрю… Владимира Макарова (кто такой? почему не знаю?). Только Макаров придурковато весел, а я, спускаясь по Шелковичной, переходя трамвайные пути «девятки» и «десятки», по самой длинной в Саратове Новоузенской, поворот на Степана Разина (да-да, и она там есть, как и улица под названием «станция Саратов-2»), тенью по темным закоулкам к мосту через жэдэ пути, испытывал несколько другую гамму.
Под стать пейзажу – безлюдье и бесприютность. В том районе ночью из Саратова уходит весна, растворяется горизонт. Вместо них – темнота, сырость, затхлость. За мостом – не видно, но она точно есть – взрослая жизнь. Пора. Другое дело, что в ней будет только хуже.
А мост над мертвой геометрией железнодорожных путей, подсвечен электричеством вечности. Которая пахнет нефтепродуктами.
Утром ночная муть отступала, однако, как я сегодня понимаю, никуда не пропадая, только накапливалась. Никотиновой горечью, похмельным ядом, мусорным ветром, усталостью и зубной болью пониже левой ключицы…
***
Сейчас у меня это один из пеших маршрутов выходного дня. Использую я его, впрочем, нечасто, ибо тогдашний путь молодого любовника оброс именами, названиями и воспоминаниями; многие из них – печальны.
В странной хрущевке, одиноко построенной сразу за трамвайным мостом, у вендиспасера, а потом храма, когда-то баптистского, а теперь православного – Рождества Богородицы – живет поэт Олег Рогов. Тонкий и светлый человек, освещавший нашу бессмысленную и подвальную самиздатскую юность.
Может, благодаря ему, флюиды поэзии возвышают мрачноватый тот пейзаж. Как-то мы с Голицыным спускались из Смирновского ущелья, где в кочегарке устраивались поэтические чтения. Уровень стихов был прямо пропорционален качеству напитков, но и того, и другого – много, поэтому менты заинтересовались нами прямо на трамвайных путях. Я достал редакционное удостоверение, Голицын – карточку сотрудника толстого журнала «Волга» со ссылкой на какой-то из Союзов Писателей, и менты, охренев от такого количества творцов на единицу завокзалья, отправили нас восвояси.
Кочегар и устроитель всех тогдашних поэзоконцертов Мурад Новосельский (Гатауллин) странно и рано умер. Несколько лет назад тусовка поминала его в столовой водников (в народе, когда-то – «матроска»), я, по личным, а, скорее, производственным причинам, туда не пошел. Но вспомнил, как, загуляв однажды в не слишком цивильном этом саратовском ЦДЛе, мы оказались на волжском острове, а оттуда, не зная ни времени, ни адреса (только Солнечный), в срок попали на похороны Петровича, музыканта и замечательного парня Володи Сиземова, который в 28 лет утонул, добираясь вплавь на какую-то из волжских турбаз…
Вода, вода, кругом вода.
В лесу на Кумыске, повыше санатория, во времена «Новых времен» периода 2003-2004 гг. (черт, сколько с ней, с этой газетой трудной судьбы надо делать оговорок), устраивались редакционные шашлыки. Сталкером и поваром работал местный житель Дима Иванов, а Сергей Григорьевич Боровиков, то ли в шутку, то ли всерьез рекомендовал запрятать хмельные фото лесных корпоративов подальше в компьютер, от аксененковских лазутчиков.
Кстати, после сюжета в передаче ОМ о разбитых в хлам дорогах Октябрьского ущелья, где к Иванову присоединился сталкер Сережа Щербаков, дороги им сделали. Сталкеры теперь почитают Лешу Спирягина за шамана и благодетеля. А я продолжаю думать, что между медиа и реальной жизнью нет никакой связи…
Кстати, сейчас по территории сердечно-сосудистого санатория ходишь, как по проспекту – раскланиваясь со знакомыми. В смысле, не молодеем…
Там, в больничных креслах, я интервьюировал Анатолия Скрипая, когда Наталья Старшова пыталась убрать его из ректоров Консерватории. И где теперь Старшова? Так ведь и Скрипай не ректор.
Там же, в разгар моего СГУшного вандализма, Марк Пинхасик взял и не поздоровался с Голицыным.
… Диму Толмацкого хоронили из дома, который я помнил по своим ночным и грустным походам. Нет, я бывал там и у Толмацкого, но памяти не прикажешь.
Может, поэтому, мне и Толмацкий вспоминается в тусовочно-вакхическом контексте. Скажем, на даче у Ольги Пицуновой в августовские серии дней рождений, когда я неизменно отчаливал, а утром привычно слушал рассказы о дальнейших человеческих комедиях и разборках, в которых вечно спокойный и почти трезвый на момент моего отъезда Толмацкий почему-то вдруг принимал самое живейшее участие. Но это свойство его личности – даже когда его не было, казалось, будто он обязательно был.
Мы дразнили его дискотекой аварией: «А что это за ди-джей? А что это за клоун?»
Или после очередного корабельного корпоратива ОМ, в преддверии продолжения, сидим у меня на кухне, а он, холостяк по жизни и убеждениям, дает практические советы из мужского опыта, мы насмешничаем, Толмацкий же добродушен, как сам август на Волге: и к героиням собственных рассказов, и к себе, и к насмешкам…
Как-то у него дома, я напомнил Толмацкому о его недавней рецензии в журнале на альбом песен сицилийских партизан. Попросил угостить кассетой. Дима долго искал ее, но не нашел. А этим летом на Сицилии занесло меня в кабачок, куда ходят одни местные, оркестрик с непременным аккордеоном играл не привычные темы Нино Рота из «Крестного отца», но именно что-то совсем сицилийское, гордое и партизанское. Вслед за тревожной мыслью – может, Толмацкий вспомнил и угостил? – заныла зубная боль пониже левой ключицы.
***
Роман в романе, как это водится в провинциальных филологических дипломах, заплетался, расшивался, резонировал.
Вернулась прежняя девушка, водка перестала быть шампанским, мы прожили несколько долгих и красивых, хотя и не очень счастливых лет.
Потом обе девушки оказались и остались в Москве.
С героиней из Октябрьского ущелья, мы, очутившись как-то вместе на веранде у Леши Колесникова, а потом в студенчески-летнем Чардыме, вспоминали те ночные дороги и прощания.
В щелястых чардымских домиках жил камыш и ветер, песок был сер, подобно непородистой седине, Волга цвела, как городской парк в давнюю весну, девушке, вернувшейся из Италии, все это, наверное, казалось, заброшенным в джунглях городом из книжки «Маугли». Моя персона усиливала сходство. Я, подрастеряв за годы комплекс неполноценности, рассказал про свои ночные маршруты. Она удивилась. Оказывается, я тогда производил на нее впечатление мужчины, который лихо ловит машину не только туда, но и обратно.
Да и вообще, такси да цветы – большинству девушек этого от нас достаточно.
Все остальное – наговоры на девушек.
Мы тогда решили, что даже короткое время вместе прекрасно, но нам противопоказано.
А лучше всего в те чардымские дни жилось Васе Джа, который счастливо наедине с собою пьянствовал привезенное мной бухло. В абсолютной гармонии с днем сегодняшним, от которого, в отличие от нас, не уклонялся ни на градус.
Правда, на обратном пути я вел его трудно и бережно, как когда-то транспортировал, обладая треснувшей ногой, моего заботливого друга. Но на сей раз ноги у меня были в полном порядке, всё остальное – в относительном, и счастливый Вася обременял меня куда меньше, чем воспоминания.
Да и водитель мой, веселый и понимающий Дмитрий, домчал нас до Саратова быстро. Под голос золотого певца Валерия Ободзинского, русского таланта трагической судьбы.
Тексты в разделе "Блоги" являются частным мнением авторов, а не редакционной позицией ИА "Взгляд-инфо".
Другие записи в блоге
Главные новости
Стали свидетелем интересного события?
Поделитесь с нами новостью, фото или видео в мессенджерах:
или свяжитесь по телефону или почте